Основания корпоративного
университета
Д. Реут Преамбула
Человечество вступило в эру постгосударственного мироустройства.
Переход этот маркирован двумя взаимосвязанными[1]
масштабными событиями: во-первых, распадом СССР
и окружающего его социалистического лагеря, то есть, переходом к
«однополярному миру», во-вторых – террористической
атакой на этот возвысившийся полюс (США и их союзников), начатой
11 сентября 2001 года. Разумеется, ни одно из произошедших
или мыслимых событий не способно само по себя упразднить институт
государства. Государственные формы будут существовать
и проявлять активность еще продолжительное время. Потерпела закономерное
фиаско идея тотальной государственности, идея супердержавы
как гаранта прогресса, благополучия граждан и безостановочного концентратора
ресурсов. Оба упомянутых события архетипически
свидетельствуют о хрупкости, временности, тщете «вавилонских башен».
Государства меньшего масштаба еще «не выработали свой ресурс», однако,
они вынуждены сосредоточить усилия на
внешних проблемах, на приспособлении к изменившемуся миру. Историей еще раз подтверждено,
что увеличение неравномерности распределения наличных легитимизированных
в обществе и включенных в социальную практику ресурсов – как материальных,
так и нематериальных – имеет пределы, превышение которых трансформирует
политическую и экономическую реальность, проецирует понятие о развитии
в новую систему координат и, в частности, проблематизирует
устойчивость этого развития. Указанную неравномерность распределения
можно характеризовать градиентами некоторых физических, расчетных
или называемых экспертами величин. Лемма миноритарных
ресурсообладателей
Существуют ситуативные пороговые значения градиентов распределения
ресурсов в социуме, превышение которых приводит к актуализации миноритарными ресурсообладателями
ранее не востребованных ресурсов, каждый раз принципиально нового
типа. Это порождает связанные с их конвертацией
социальные процессы и явления, понижающие степень устойчивости развития
социума, возможно, до критического значения. Таковы, например, хакерство,
социальные волнения, революции или терроризм. В последнем случае
новым ресурсом выступило массовое отрицание страха смерти рядовыми
террористами-камикадзе. Динамика градиентов заблаговременно
свидетельствует о возрастании рисков. Увеличение градиентов, вызванное
развалом СССР, увеличило риски для США, которые реализовались спустя
десятилетие. Распределение любых поддающихся
регистрации или оценке ресурсов, ситуативные изменения критических
пороговых значений, процессы конвертации
могли бы составить область новой науки – ресурсной
мета-экономики, а регулирование допустимых пределов ресурсных
градиентов, страхование экономических, политических и военных рисков
следовало бы в идеале поручить авторитетной международной организации.
Прожект заведомо утопичен, он
изложен здесь, чтобы иллюстрировать следующее. Во-первых, в настоящее время
нельзя рассчитывать на внимание государства ко внутренним
долговременным проблемам, в частности, к проблеме образования.
Ни серьезные концептуальные проработки, ни изыскание ресурсов, ни
организационные шаги реформы образования не могут на данном историческом
этапе в силу ресурсных и идеологических ограничений оказаться в
числе приоритетных задач государства. В лучшем случае возможен «косметический
ремонт». Но он приносит мало пользы. Конструктивность роли государства
в сфере образования близка к исчерпанию. Во-вторых, мир становится все
сложнее, решение актуальных задач сегодняшнего дня требует знаний,
выходящих за пределы учебных программ (таковы, например, ресурсная
мета-экономика, теория мифа, теория креативности).
Качественное изменение образования необходимо. Поскольку государство не способно
произвести необходимые действия, оно оказывается не в состоянии
претендовать на роль агента дальнейшего развития социума. Корпорация как агент развития
Государства
после известного смещения силового равновесия в мире заняты в первую
очередь поиском новых геополитических, геоэкономических
конфигураций и своего места в них, а также решением неожиданно возникающих
глобальных проблем (включая терроризм), поэтому движителями общественного
развития становятся корпорации
как субъекты хозяйственной и общественной деятельности, обладающие
ощутимым интеллектуальным и материальным потенциалом, способные
оперативно сосредоточить его на решении конкретных проблем (естественно,
своих собственных). Еще в начале прошлого века
французский социолог Э. Дюркгейм предсказывал
роль агента развития корпорациям. На Западе известны два вида последних:
1. концерн, «корпорация» в узком
смысле слова, холдинг и т.д. – совокупность лиц, объединившихся
для достижения какой-либо цели и образующих самостоятельный субъект
права (юридическое лицо), 2. гильдия, «цех» – объединение
по профессиональному признаку. На просторах бывшего Союза на
первых порах в процессе приватизации предприятия часто и производственные
помещения, и специализация производства, и основной штат сотрудников
сохранялись, но происходящее изменение от этого не становилось менее кардинальным. Осознание этого (опаздывающее на годы),
да, вдобавок, авторитет всего заграничного и стремление высших менеджеров
задействовать в помощь к административным и экономическим рычагам
силу связей профессиональной общности стали причинами если не планомерных
действий, то, повсеместного распространения у нас термина «корпорация».
Идеологические новации в социуме всегда предшествуют организационным. Сравнивая два упомянутых вида
западных корпораций, заметим, что, связи, основанные на отношениях
собственности, сегодня сильнее, чем профессиональная солидарность. В связи с вопросами образования
в первую очередь нас будут интересовать достаточно крупные корпорации – иерархически организованные пространственно распределенные
субъекты социума с явно выраженной хозяйственно-экономической или
профессиональной составляющей деятельности [1-3]. Структура и законы интегрального мира
Социум представляет собой внешний по отношению к человеку мир. Одни феномены социума недолговечны,
другие – существуют веками. Разница между ними – в том, что они
по-разному соотносятся с внутренним
миром человека. Внутренний мир человека включает индивидуальное сознание и личностное
бессознательное. Внешний и внутренний миры в совокупности
представляют собой интегральный
мир человека (Рис.1). Рассмотренное членение интегрального мира
предпринято в связи с тем, что все три составляющие его частичных
мира подчиняются различным логикам.
Разрабатываемые и осуществляемые
нами на практике проекты, в том числе, проекты корпораций, являются
продуктами сознания. После того, как проект проработан индивидуально,
он выносится на коллективное обсуждение, дорабатывается, критикуется
и, возможно, реализуется. Примером эффективной коллективной
интеллектуальной работы могут служить оргдеятельностные
игры (ОДИ) [4]. При этом пространство коллективной мыследеятельности,
изображаемое известной «трехслойкой» (схемой
коллективной мыследеятельности) [5], реализуемой
в ОДИ, следующим образом соотносится со схемой интегрального мира
человека [6,7] (Рис. 1). Слой чистого мышления (М)
соответствует области индивидуального сознания. Нижний слой, слой
мыследействования (м-Д) располагаются во внешнем по отношению к человеку мире.
Средний слой, слой мыслекоммуникации (М-К) частично располагается в области
индивидуального сознания, частично – в области внешнего по отношению
к данному конкретному человеку мира. Чтобы преодолеть границу между
областью индивидуального сознания и внешним миром, нужно быть коммуникативно
компетентным (Рис. 1). Различие логик в двух «половинах»
схемы коллективной мыследеятельности обычно
не учитывается при проектировании и программировании процессов деятельности,
в частности, бизнес-процессов. Логика внешнего мира не совпадает с классической
логикой. К чему это приводит? К тому, что результаты оргдеятельностной игры в практике довольно быстро затухают.
Каждый участник ОДИ может посетить место ее проведения, скажем,
через год и убедиться, что реализуется далеко не 100% принятых с
воодушевлением результатов. С другой стороны, некоторые явления
в социуме существуют на протяжение веков.
Дело в том, что способ их
существования сообразуется с различием логик в разных частях
интегрального мира. Таковы, например, мифы [6,7]. Миф
Обыденное сознание приписывает
мифу оттенок эфемерности, выдумки, неправды. В то же время всеми
ощущается смутная, архаическая, внементальная,
сокрушительная мощь мифа. Библиография мифа насчитывает
сотни тысяч наименований. Структура поля сродни «Марсианским хроникам»
Бредбери: в каждой работе – новый пейзаж. Согласно старому толковому словарю,
для простых людей миф – всего лишь сказка, предание. Официальная философия полагала его «формой общественного
сознания, … отражающей в виде образного повествования фантастические
представления о природе общества и личности». Миф трактовался как
«обобщенное отражение действительности в виде чувственно-конкретных
персонификаций и одушевленных существ».
Хюбнер рассматривал миф как «конструктивное
мировоззрение, содержащее в себе онтологическую модель истолкования».
Юнг расширял понятие мифа до продукта воображения вообще. Барт определял миф как вторичный язык, для чего должен априори
существовать род первичных свободных от мифов действительностей.
Не без влияния школы структурализма стали говорить о «мифизации
известных понятий, благодаря которой явления, лежащие в их основе
как рационально неосвояемые и непостижимые,
должны быть представлены в качестве благоговейно принимаемых (например,
государство, народ, коллектив, техника)». Возникла точка зрения,
что «миф есть способ социального существования» или: «миф – это
единственно возможный способ диалога человека с миром» или: миф
– «особый способ ориентации человека в мире». Или: точка зрения
на миф как на ценность, наделенную определенными функциями (указание
направлений человеческого поведения, поддержание нормальной жизни
в обществе, борьба с фрустрацией, помощь
человеку в преодолении конфликтов и стрессов). Фромм
считал миф «системой мышления и действия, основания которой разделяются
некоторой группой и предоставляют индивиду рамки ориентации и объекты
поклонения». Под мифами иногда подразумевают «картины, изображающие
мир с точки зрения видящего извне – в противоположность фрагментарному
видению, созерцающему мир изнутри». При этом миф оказывается «фундаментальным
свойством человеческого сознания, обеспечивающим его целостность
– целостность индивидуума, коллектива –
через целостность мировосприятия». Миф есть «принцип истинности,
способ верификации, соответствующий данной конфигурации знания».
Мифом называют также любой набор представлений,
который определяет и организует образ восприятия и действия
человека». Какой
же взгляд на миф является «правильным»? Не существует категорических
аргументов в пользу какого-либо одного из них. Каждый заключает
в себе некоторый частный конструктив. И каждый конструктив
с точки зрения всей совокупности существующих определений представляется
упрощенным, частичным и недостаточным. В
качестве ведущего свойства мифа мы выбрали его самопроизвольную
воспроизводимость в течение длительного
времени [6,7]. Миф есть сущность большей размерности по сравнению
с областями понятий наличных наук и практик. Накопленные в культуре
материалы по мифу суть его проекции, следы на совокупностях представлений
конкретных областей человеческого знания. Для полагания сущности
мифа был использован системно-антропологический подход. Системность
подхода – в том, что миф полагается системой в смысле [8] совокупности
процессов, структур связей, набора функций, материала и его организованностей.
Антропологичность подхода – в том, что
при полагании фона, т.е. при компоновке плацдарма (Рис.1) функционирования
мифа как идеальной сущности стягиваются те совокупности представлений
конкретных наук, практик, методологий, которые необходимы для объяснения
существования человека. Миф оказывается устойчивой
самовоспроизводящеяся системой в интегральном
мире – пространстве, включающем внутренний мир (индивидуальное сознание
и личностное бессознательное) и внешний мир человека. Главным
отличием мифа от других системных сущностей введенного указанным
образом интегрального мира является замкнутость
траектории мифообразующего процесса (Рис.1). Миф является формой организации опыта взаимного употребления человека
и социума, средством связи человека с опытом человечества, той «клеткой»,
проекции которые в их множестве воспринимаются нами как культуры
и другие длительно существующие феномены социума. Культура состоит
из мифов подобно тому, как материя состоит из атомов. Облако мифов,
представляемых в заявленном пространстве замкнутыми траекториями,
есть надстройка над животным, которая и отличает от него человека.
Миф служит средством самоорганизации и соорганизации.
Мифы могут опираться не только на базовые архетипы человека, но
и на более динамичные психические образования – системы конденсированного
опыта (СКО) [9]. Те и другие определяют механизмы взаимодействия
мифа с личностью. 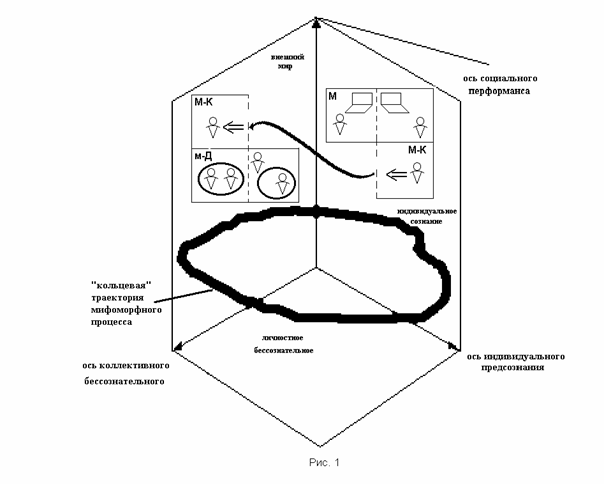
Человек одновременно взаимодействует
с множеством мифов, в
различной степени и в различном качестве участвуя в каждом из них.
При этом один или несколько мифов оказываются ведущими, в наибольшей
степени влияющими на жизнемыследеятельность
(практику) человека, остальные пребывают в рангах, вложенных, объемлющих,
фоновых или периферийных. Более устойчивые мифы могут исполнять
по отношению к менее устойчивым инструментальную
функцию. Необходимо осуществить выбор оснований
классификации при предлагаемой трактовке мифа и последующую классификацию
«элементарных» мифов, разработку техник декомпозиции облака мифов,
исследование существования и (может быть) единственности процедуры
декомпозиции, взаимных влияний (интерференций) в облаке мифов, возрастной
динамики взаимодействия участников с мифом, роли и соотношения коллективного
и индивидуального в процессе смены мифа, рассмотрение религии, идеологии,
образа жизни как мифа (с выходом на модификацию потребностей),
проверку гипотез дискретности/континуальности пространства мифов
(в самом деле: конечно, счетно или несчетно число возможных мифов?; осуществляется
ли их трансформация непрерывно или дискретно?) Миф функционирует следующим образом.
Внешний мир приводит индивида в типовую ситуацию, в которой актуализируется
некоторый архетип, обеспечивающий энергетику мифа. Бессознательный
ответ индивида (креативный акт!) вовлекает
его в коллективные действия, которые осознаются в виде судьбы, рока
и т.д., поддерживают актуализированный тип социальной практики,
который приводит его в ту же или иную типовую ситуацию, возбуждающую
тот же или иной архетип. Если сложился повторяющийся процесс (проходящий
через один и тот же архетип, одну и ту же типовую ситуацию), то
члены социума подчиняются ему как естественному порядку вещей. Замкнутая
траектория, пронизывающая внутренний мир (индивидуальное сознание
и личностное бессознательное) и внешний мир человека в проекции
на совокупность представлений антропологии фиксируется антропологами
в качестве мифа. Если условия для массового воспроизводства
креативного акта сложились, если возник
повторяющийся процесс (что бывает крайне
редко), то данный креативный
акт породил миф. Именно в этом смысле мы утверждаем, что креативность сам по себе является мифом, а креативизм как обискусствленный творческий процесс – способом проектирования
мифа. Креативность
Креативный акт есть создание нового [10-13]. Новое, в данном
контексте, мы предлагаем понимать субъективно. Новое есть впервые мыслимое или делаемое данным субъектом, ранее неизвестное ему (фиксируемое таковым с разрешающей способностью
индивидуального восприятия и на основании накопленного содержимого
индивидуальной памяти со всеми ее текущими несовершенствами). Иными
словами, креативный акт квалифицируется как таковой по внутренним критериям
новизны самого субъекта. Тогда максимально креативен ребенок: он все делает впервые. Непрерывно совершающееся
познание мира неумолимо сужает поле креативности
растущего человека. Одновременно увеличиваются возможности для
вторичной, «комбинаторной» креативности.
Под вторичной креативностью
мы будем понимать порождение относительной
новизны: культурный перенос идей, понятий, структур из одной области
мира в другую [14]. Продукт первичной или вторичной
креативности используется породившей их
личностью, а также подвергается экспертизе соответствующих институтов
и либо отвергается (как «деревянный велосипед») либо принимается
к использованию в масштабах более или менее широкой человеческой
общности. Существование первичной креативности доказывается хотя бы изобретением колеса, поскольку
аналогов последнего в природе не обнаружено. Примеров вторичной
креативности мы позволим себе не приводить ввиду их распространенности.
Вероятно, в связи со степенью
креативности мы подразделяем людей на
тех, кто «пробивает стены», и тех, кто «подбирает осколки». Условием, благоприятствующим
упомянутому культурному переносу, является миграция [14]. Однако
сама по себе миграция может ничего и не дать:
сундук капитана Кука три раза обошел вокруг света и не переменился[2]. Между двумя указанными формами
креативности существует зависимость обратной
пропорциональности. Расходование ресурса незнания выливается в приращение
поля возможных комбинаторных сопоставлений. «По достижении определенного
уровня интеллект представляется имеющим незначительную корреляцию
с креативностью, т.е. обладающее высоким интеллектуальным уровнем
лицо может и не иметь высокого творческого потенциала» [15]. «Джин креативности»
способен вырваться из бутылки и потрясти основы цивилизации. Поэтому
общество небезразлично к креативному потенциалу
своих членов. Ребенка ожидает школьная система, подавляющая его
первичный креативный потенциал, снижающая
общий креативный фон до уровня, безопасного
для существования и функционирования социума. Превышение критического
уровня креативности взрывает социум (ср.
с пассионарностью [16]). Если обучение есть подавление первичной креативности,
то образование есть оспособление креативностью вторичной
(«протезирование»). Как известно, школа решает не только (и, может
быть, не столько) проблему развития личности, сколько проблему сохранения социума. Ведь чрезмерно креативная общность людей неуправляема, следовательно, асоциальна.
Избыточно креативные личности выявлялись
и подвергались нейтрализации во все времена. Однако, после того, как проблема сохранения
успешно решена, оказывается, что перед социумом стоит также
и проблема развития, причем, развития не только в
заданных известных направлениях и рамках, но и развития как поиска
и реализации новых направлений движения социума. Ведь в наше время
копирование чего бы то ни было уже придуманного, перестало представлять
достойную упоминания сложность. Возрождение затоптанной первичной
креативности и стимуляция вторичной, управляемой,
«комбинаторной» креативности [17,18] переходит
в разряд актуальных проблем. «У высокоорганизованных организмов
существует основополагающее постоянное противоречие между установлением
и поддержанием постоянства окружающей среды и нарушением достигнутого
равновесия ради новых возможностей и новых ощущений» [15] . Любой футурологический прогноз
становится ярким примером недалекого мышления, иногда задолго до
даты, на которую он сфокусирован. Предсказывать плоды креативности
есть занятие неблагодарное. Эта же причина выстраивает ситуативный
порог детализации план-карты
научных исследований [19]. Встает проблема «разумных» ее пределов.
Без общества человек невозможен.
Но общество есть ограничение свободы. Креативность
есть высшая свобода. Проблема в том, каким образом человек может
доверить (делегировать) себе подавление собственной свободы. Модель культуры,
представляющая последнюю в виде облака мифов, указывает подходы
к трансформации этого облака путем целенаправленной активизации
рефлексивных процессов на границе внешнего мира человека и его индивидуального
сознания, в области, указываемой конкретной мифоморфной
траекторией. Рефлексия может включать креативную фазу, многократно
повышая эффективность процесса. Заметим, что если рефлексия может
осуществляться раздельно применительно к внешнему и внутреннему
пространству человека, то акт креативности
в силу самого механизма его реализации вообще возможен лишь вследствие
соположения (рядоположения) внешнего и
внутреннего пространств человека и преодоления границы между ними.
Наиболее важным следствием этого различия представляется
следующее. Если идентичности рефлектирующего ничто не угрожает,
то идентичность личности, осуществляющей креативный
акт, может измениться вследствие неконтролируемого элемента новизны,
являющегося продуктом креативного акта.
При рефлексии, включающей креативную фазу, меняться могут не только средства осуществляемой
деятельности, но и цели, а также представление личности о себе.
Скажем жестче. Нет никаких оснований предполагать
идентичность креативной личности кроме
инерции сознания. Видимо, это является одним из аспектов той «глубочайшей
философской проблемы, в которую даже страшно заглядывать» [20]. База корпорации и ресурс ее развития
Два предыдущих «отвлеченных»
раздела были посвящены изложению сути того, что составляет базу
существования устойчивой корпорации и основной ресурс ее развития.
Базой является облако мифов (понимаемых в вышеозначенном смысле).
Основным ресурсом развития
служит креативный потенциал ее сотрудников. На настоящем периоде
исторического развития на просторах бывшего Союза корпорация может
в достаточной степени сосредоточиться на своих внутренних проблемах
и выделить большую, чем какой-либо другой социокультурный
институт, долю ресурсов для конвертации
в креативный потенциал [21]. Исторический контекст создает ситуацию,
подобную автомобильным гонкам: тот, чья скорость развития обгоняет
время, вылетает с трассы корпоративных гонок вверх колесами, тот,
кто осторожничал (пожадничал), остается в хвосте прогресса. Корпоративный университет оказывается
в потенциале наиболее мощной образовательной структурой. Он является
формой институционализации организационной
культуры и способом перехода ее в культуру корпоративную [22]. Корпоративный университет как гуманитарная
технология нового поколения
Корпоративный университет с ориентацией
на креативность, с широкой автономией
студентов в разработке и осуществлении своей «образовательной траектории»,
с опорой на новые гуманитарные технологии креативизма
– вот реальный «паровоз», который способен вытащить корпорации,
а за ними и весь наш «состав» из стагнации. Важнейшую роль в организации
учебного процесса в корпоративном университете играют самоопределение
студента, его квалифицированная навигация в современном меняющемся
мире и наращивание креативного потенциала. Корпоративная культура, фокусом
институционализации, которой является
корпоративный университет, обеспечивает баланс[3]
интересов при взаимном употреблении человека и группы, группы и
корпорации. Корпоративный университет является естественной формой
институционализации процессов непрерывного
согласования интересов составляющих корпорацию разноприродных сущностей. Критерием баланса является суммарная креативность
корпорации, выражающаяся вовне в ее конкурентоспособности. Литература
1.
Реут Д.В. Корпоративный университет
как ключевая точка консультирования корпоративности //Корпоративная
культура. Материалы встречи ОДН 30 октября 2001 года. М.: Московская
сеть консультантов по организационному развитию. odn.ru.
2001. – С. 3-21. 2.
Чернышев А.Ю. Практика консультирования
по вопросам корпоративной культуры // Корпоративная культура. Материалы
встречи ОДН 30 октября 2001 года. М.: Московская сеть консультантов
по организационному развитию. odn.ru.
2001. – С.22-35. 3.
Аванесов В.Г. Корпоративная культура:
вызов времени, актуальная социокультурная
задача, проблемы и перспективы // Корпоративная культура. Материалы
встречи ОДН 30 октября 2001 года. М.: Московская сеть консультантов
по организационному развитию. odn.ru.
2001. – С.36-42. 4.
Щедровицкий Г.П., Котельников С.И. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации
и метод развития коллективной мыследеятельности
// Нововведения в организациях. Труды семинара. ВНИИ системных исследований. М., 1983 (Избранные труды, 1995. – С.115-142). 5.
Щедровицкий Г.П. Схема мыследеятельности – системно-структурное строение, смысл и
содержание // Системные исследования. Методологические проблемы.
Ежегодник 1986, М., 1987. 6.
Реут Д.В. Системно-антропологическая
реконструкция мифа. В кн. Методологический фронтир 90-х. V чтения памяти Георгия Петровича Щедровицкого. М.: Путь, 2000. – С. 89-125, http://www.socio.ru/public/reut/Mif.doc
7.
Реут Д.В. Миф и классика СМД. В кн.
Методологический фронтир 90-х. V чтения
памяти Георгия Петровича Щедровицкого.
М.: Путь, 2000, с. 126-147, http://www.creon.ru/sections/ideology/2021.asp.
8.
Щедровицкий Г.П. Два понятия системы. В
кн. Избранные труды. М.: Школа культурной политики, 1995. – С.228-232. 9.
Гроф С., Гроф
К. Неистовый поиск себя. М.: Издательство Трансперсонального
института, 1996. 10. Реут Д.В. Креативные
структуры. Рефлексивные процессы и управление. Тезисы третьего международного
симпозиума. 8-10 октября 2001, М: Институт психологии РАН. – С.
161-163. 11. Реут Д.В. Сладкое проклятие креативности. Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций
(CASC'2001). Труды 1-й международной конференции. Москва, 11-12
октября 2001 г. т.3. М.: Институт проблем управления РАН. – С. 91-123. 12. Реут Д.В. Дискурс
креативизма и когнитивный параллакс. Когнитивный
анализ и управление развитием ситуаций (CASC'2001). Труды 1-й международной
конференции. Москва, 11-12 октября 2001 г. т.3. М.: Институт проблем
управления РАН. – С. 124-130. 13. Реут Д.В. Креативизм
в ряду подходов к решению сверхмассовой
проблемы самоактуализации. Когнитивный анализ и управление развитием
ситуаций (CASC'2001).
Труды 1-й международной конференции. Москва, 11-12 октября 2001
г. т.3. М.: Институт проблем управления РАН. – С. 131-139. 14. Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания.
СПб: изд-во РХГИ, 1999. 15. ред. Губский
Е.Ф. и др. Краткая философская энциклопедия. М.: А/О «Издательская
группа «ПРОГРЕСС», 1994. 16. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера
Земли. ВИНИТИ, 1979, вып.1, 2, 3. 17. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.:
Московский рабочий, 1973. 18. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Новосибирск:
Наука, 1991. 19. Генисаретский О.И., Щедровицкий
Г.П. Методологическая картина дизайна. Материалы методологической
школы –2000. Архив ШКП. 20. Щедровицкий П.Г. Педагогика свободы. Материалы
методологической школы–2000. Архив ШКП. 21. Реут Д.В. Вызов креативности и корпоративный университет: анализ и прогноз.
Консультант директора, 2001, № 22 (154). – С. 30-33 22. Реут Д.В., Черкашина
О.А., Аванесов В.Г., Николаева Е.В., Чернышев
А.Ю. От организационной культуры к корпоративной
через конфликты на слоистом плацдарме. Сборник «В контексте конфликтологии.
Вып.4: Технология урегулирования городского конфликта. Отв. ред.
Цой Л.Н., М., 2002 (в печати). [1] Отмеченная взаимная
связь поясняется ниже. [2] Естественно,
здесь определение «сундук» в переносном смысле адресовано не очень
восприимчивым людям, которые не воспользовались представившимися
им возможностями развития. [3] Этот баланс
имеет возрастную динамику, зависит он и от других врожденных и приобретенных
свойств личности.
|