| 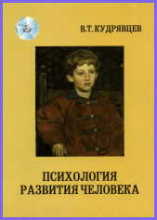 ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА: ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА:
основания культурно-исторического подхода
Часть
1, ПЦ
"Эксперимент", Рига, 1999.
В.Т.
Кудрявцев В
книге дается современное обоснование культурно-исторического подхода к исследованию
проблем психологии развития человека. Выдвигается система нетрадиционных представлений
о соотношении исторического и логического в развитии; зонах ближайшего развития
и перспективах безграничного становления человека и др. Рассматриваются природа
и конкретные формы взаимосвязи процессов культуротворчества, культуроосвоения
и психического развития ребенка, исторические типы детства, их психологическое
содержание, а также своеобразная культуротворческая функция детства; определяются
психолого-педагогические основы проектирования развивающего дошкольного образования.
Для психологов, педагогов, философов, культурологов, историков.
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА
I.
ИСТОРИЗМ В ПСИХОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ: ОТ ПРИНЦИПА - К ПРОБЛЕМЕ.
1.1.
Вводные замечания.
1.2. Что есть история
для психолога?
1.3. Психология и мифология.
1.4. Источники мифа о детском развитии. ГЛАВА
II.
ДЕТСТВО КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.
2.1. Детство - предмет
полидисциплинарного исследования.
2.2. Идея
самоценности детства и трудности в ее обосновании. ГЛАВА
III.
К ПОНИМАНИЮ ЛОГИКИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТСТВА.
3.1. Исторические
предпосылки развития детства.
3.2. Культуротворческая функция детства. Роль
образования в формировании его исторически нового типа.
3.3.
Социальный и психологический смысл явлений детской субкультуры. ГЛАВА
IV.
ПРОБЛЕМА САМОДЕТЕРМИНАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ).
4.1. Универсальность как тенденция развития.
4.2. Специфика исходных ситуаций
развития.
4.3. Зона ближайшего развития в контексте
саморазвития ребенка. 
Светлой
памяти
Василия Васильевича Давыдова
посвящается ВВЕДЕНИЕ Фундаментальная
проблема развития человека как субъекта социальной деятельности сегодня становится
предметом междисциплинарных, или точнее — полидисциплинарных исследований. Каждая
из общественно-гуманитарных дисциплин выделяет внутри этой проблемы свой особенный
"срез", внося собственный неповторимый вклад в ее комплексную разработку.
Однако ни одна из них не может отвлечься от того существенно общего, что так или
иначе проявляется во всех аспектах названной проблемы и задает исходные основания
ее анализа. Это — исторический характер развития человека, созидающего и осваивающего
универсум родовой человеческой культуры.
Не составляет в этом плане исключения
и психология, которая под определенным углом зрения может быть рассмотрена как
специфическая форма постижения законов человеческой истории. Но если это действительно
так, то возникает вопрос: каково место психологии в ряду социально-исторических
дисциплин? Должна ли она просто опираться на готовые результаты различных историко-социологических
исследований или же претендовать на нечто большее — фиксировать некоторый самобытный
и значимый пласт исторической реальности? Подлинный смысл известного тезиса А.Р.
Лурии — "психология как историческая наука", на наш взгляд, подразумевает
именно второе. Это касается не только исторической психологии как специальной
области психологического знания, но и его системы в целом. Более того, психология,
по нашему мнению, способна в итоге завоевать статус фундаментальной исторической
дисциплины, не ограничиваясь конкретизацией и иллюстрацией тех глобальных закономерностей,
которые изучаются "большой" историей, философией, социологией. Эти закономерности
— в их всеобщем, а не частном выражении — с известных позиций могут быть вписаны
в проблемное поле психологии.
Все необходимые предпосылки для этого в
отечественной психологии уже имеются. Они созданы прежде всего в русле культурно-исторической
теории Л.С. Выготского и теории деятельности, разработанной научными школами С.Л.
Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Однако простой перевод достижений психологии на
такой "язык науки", который бы делал их открытыми и доступными для социально-философского,
теоретико-исторического и т.п. осмысления, едва ли будет способствовать ее полноценному
включению в полидисциплинарное исследование проблематики исторического бытия человека.
В лучшем случае за счет введения новых средств языкового описания может быть расширена
фактологическая база социально-исторического знания. Но отсюда еще не следует,
что репрезентированные таким образом психологические материалы приобретут значение
самобытной онтологии, без которой не представим целостный образ исторической реальности. Задача
выявления точек роста психологии как особой формы исторического знания нацеливает
нас на специальную методологическую работу (создание адекватного полидисциплинарного
языка науки — один из ее приоритетов). Такая работа должна включать в себя, по
меньшей мере, три узловых аспекта. Первый
из них связан с проблематизацией устоявшихся представлений об исторической
сущности человеческой психики и ее развития, с критически-рефлексивным анализом
уже наметившихся в генетической психологии тенденций реализации идеи историзма,
проводимым с широких философских и социогуманитарных позиций. Второй
аспект этой работы касается выработки специфических концептуальных средств
с целью обогащения психологического понимания исторической природы генеза деятельности,
сознания и личности человека новым содержанием. Это требует обоснования новых
подходов к анализу закономерностей, механизмов, уровней и форм культурно-исторической
детерминации человеческой психики. Здесь, в частности, мы сталкиваемся с необходимостью
поиска нетрадиционных способов рассмотрения классической проблемы присвоения
родовой культуры как основы психического развития индивида (ребенка).
В присвоении культуры, в самом этом развитии исследователю предстоит увидеть особую
форму культурного творчества, черты инновационной деятельности, по-своему определяющей
историческую судьбу рода. Такое оборачивание проблемы предполагает преодоление
традиционной социально-исторической парадигмы детства и детского развития.
Этой парадигме присущи:
* противопоставление процессов присвоения и творчества,
с которыми идентифицируются разные векторы психического развития;
* сведение
присвоения к воспроизведению, "интериоризации" наличных структур социального
опыта;
* негативизм по отношению к возможностям включения исторически складывающихся
(в отличие от уже сложившихся) форм культуротворческой деятельности в предмет
генетической психологии;
* универсализация представлений о психическом развитии
как "имитационной модели" исторического развития сознания;
* отождествление
понятий о социальных факторах и культурно-исторических источниках детского развития
(понятий социализации и культуроосвоения).
В качестве возможных альтернатив
этим позициям могут быть соответственно обозначены:
* понимание присвоения
культуры как творческого процесса, лежащего в основе саморазвития детской психики;
* рассмотрение проблематизации социокультурного опыта как ключевого механизма
его присвоения ребенком и одновременно особого способа объективно-исторического
развития культуры;
* обращение к анализу культуротворческой деятельности для
осмысления природы детского развития в двух планах: во-первых, в плане освоения
детьми совокупного креативного потенциала человечества, а через это — складывающимися
формами человеческой ментальности, во-вторых, — в плане амплификации ребенком
этого потенциала;
* воссоздание культурно-исторической (а не только онтогенетической)
специфики и самобытности детского развития;
* разведение понятий социализации
и культуроосвоения, фиксирующих разные уровни индивидуального бытия человека. Наконец,
третий аспект работы в избранном направлении сопряжен с определением стратегий
проектирования развивающе-опережающих типов социальной практики,
прежде всего — образовательной. Последние призваны выполнять функцию механизмов
перспективного исторического движения, обеспечивая не только преемственность,
но и поступательность в развитии культурного целого.
Раскроем этот аспект
несколько подробнее. В ряде трудов (Э.В. Ильенков, 1968; В.В. Давыдов,
1972, 1986, 1996; Философско-психологические проблемы развития образования, 1981)
подвергался критике внеисторический характер традиционной системы образования,
анализировались его источники и следствия. Речь в них шла об отрыве традиционного
образования, в первую очередь — его содержания, от исторических и логических корней
человеческого развития. Этот отрыв привел к выпадению образования (школьного,
дошкольного и др.) из исторического контекста культуросозидательной деятельности
людей. Оно оказалось отчужденным не только от "прошлого" — накопленного
предшествующими поколениями общественно-творческого опыта, но также от "настоящего"
и "будущего". Современное (по сути — вневременное) массовое образование
лишено актуальной культуротворческой направленности, устремленности как в онтогенетическую,
так и в историческую перспективу человеческого развития. Оно "плетется в
хвосте" (Л.С. Выготский) не только стихийного развития индивида, но и социальных
изменений — столь же стихийных и не сообразованных с приоритетами развития человека.
Между тем бесспорно, что важная роль в проектировании данных приоритетов
как раз и должна принадлежать образованию (в этом заключен его потенциальный опережающий
смысл). В тех редких случаях, когда образование все же вовлекалось в авангард
общественных реформ, оно чаще выполняло узкоприкладную функцию "упреждающей"
подготовки к производственной и гражданской жизни в новых социально-экономических
условиях. При этом изменения могли касаться способов, приемов и орудий социализации
подрастающих поколений, тогда как сам тип и основания их развития оставались,
по существу, неизменными. Здесь образование становилось инфраструктурной базой
исторически ограниченной социально-инновационной деятельности, но отнюдь не движущей
силой целостного исторического процесса. Ведь одним из критериев исторического
развития является именно смена универсальных принципов духовного развития
людей. Однако такая смена предполагает активное участие подрастающих поколений
в производстве новых форм всеобщей культуры, что не сводимо к простому воспроизведению
и несущественной модификации наличных структур социальной деятельности. Присвоение
родовой человеческой сущности подрастающими поколениями представляет собой способ
актуально-исторического развития самой этой сущности ("здесь и теперь"),
а не служит лишь предпосылкой ее изменения в будущем, в некоем туманном "завтра",
когда эти поколения непосредственно вольются в общественно-трудовую жизнь.
Так или иначе, но в условиях современной цивилизации основные возрастные
формации (детство, юность и др.) постепенно обретают не только онтогенетическую,
но и культурно-историческую самобытность, которая определяется их особым вкладом
в становление культуры как целого. Это обстоятельство косвенно отражено в статье
31 (2) Конвенции о правах ребенка, принятой 44-ой сессией Генеральной Ассамблеи
ООН (1989) и подписанная еще СССР 15 сентября 1990 г. В ней провозглашается "право
ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой жизни", указывается
на необходимость предоставления детям "соответствующих и равных возможностей
для культурной и творческой деятельности..." (Международная защита прав и
свобод человека, 1990. С. 401).
В подобной социокультурной ситуации образование
должно стать не только всеобщей формой психического развития индивида (Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), но и особой формой исторического развития родовой
человеческой деятельности и сознания, культуротворческим инструментом и институтом
общества. Таким образом, возникает проблема образования в его целостном отношении
к историческому и индивидуальному развитию человека. Классическая проблема
обучения и психического развития — лишь часть этой единой комплексной проблемы.
Конечно, говоря о культуротворческой миссии образования, мы имеем в виду
не любое образование, а только особым образом спроектированное и построенное.
Но тогда правомерен вопрос: как возможно такое образование, да и возможно ли оно
вообще? История свидетельствует: во все времена образовательные институты стремились
обеспечивать преемственность в ходе межпоколенной передачи социокультурного опыта.
За поступательность в историческом движении "отвечали" уже другие общественные
институты, это не входило в компетенцию образования. Даже большинство сегодняшних
образовательных инноваций ориентировано в основном на проектирование различных
форм "культуроосвоительской" деятельности детей, в то время как культуротворческий
потенциал современного детства их инициаторами фактически игнорируется. Однако,
может быть, этим и нужно ограничить способ вхождения индивида в пространство культуры
и время истории через систему образования? Думается, сколь-нибудь ясный ответ
на поставленный вопрос можно получить лишь с позиций общего взгляда на проблему
"психология и история".
В ее рамках исследователь сталкивается
и с рядом других фундаментальных вопросов. Назовем некоторые из них. Что представляет
собой культурно-историческая реальность с точки зрения генетического психолога?
Каким путем целостный (хотя и преломленный в особом фокусе) образ истории может
быть вобран в предмет психологии развития? Какие изменения в научную картину психического
развития способен привнести такой образ истории?
Ответы на все эти вопросы
требуют превращения общегуманитарной методологической идеи историзма в самостоятельный
предмет теоретико-психологической рефлексии. Представления об историческом, которые
уже сложились в недрах других дисциплин, при этом, разумеется, необходимы, но
недостаточны. "Историческое" должно быть специфически воспроизведено,
по-особому "переработано" в психологических категориях. Именно под этим
углом зрения каждый из трех выделенных выше аспектов научного анализа нашел свое
отражение в нашей книге. Вместе с тем гносеологический вопрос: "Что есть
история для психолога? " закономерно перерастает в онтологическую
проблему творческой "участности" (М.М. Бахтин) развивающегося индивидуального
сознания в процессе конструирования культурно-исторической реальности. Предмет
теоретического исследования, развернутого на страницах книги, — онтологические
и гносеологические основания культурно-исторического подхода в современной
психологии развития. Раскрывая их, автор опирался на вполне определенные научные
традиции. В
философской части — это прежде всего диалектическая концепция деятельности как
субстанции человеческого развития, вехами исторической кристаллизации которой
стали труды Б. Спинозы, И. Канта, И.-Г. Фихте, Ф. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, Л.
Фейербаха, К. Маркса. Опыт осмысления ее ключевых положений современными философами
(Э.В. Ильенковым, Г.С. Батищевым, Э.Г. Юдиным, В.П. Ивановым, В.С. Библером, Ф.Т.
Михайловым, Ю.М. Бородаем, В.А. Лекторским, Л.К. Науменко, Ж.М. Абдильдиным, К.А.
Абишевым, А.А. Хамидовым и др.) был также глубоко значим для автора. Наряду с
этим, в книге получили явный или неявный резонанс некоторые идеи философов, логиков
и литературоведов — И.А. Ильина, П.А. Флоренского, В.Б. Шкловского, М.М. Бахтина,
И. Лакатоса, М.А. Лифшица; историков — М. Блока, А. Тойнби, А.Я. Гуревича; биологов-эволюционистов
— А.Н. Северцова, И.И. Шмальгаузена, В.А. Вагнера; физиологов — А.А. Ухтомского,
Н.А. Бернштейна; антрополога Я.Я. Рогинского и др. Теоретико-психологический
контекст нашего исследования задан основными положениями конкретно-исторической
теории психического развития человека и концепции его деятельностной детерминации
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, А.В.
Запорожец, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина). Попытки реализации этих
положений в русле теорий учебной (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) и игровой (Д.Б.
Эльконин) деятельности, концепции амплификации детского развития (А.В. Запорожец),
представлений о культурно-исторической медиации развития человека (В.П. Зинченко),
надситуативной активности субъекта как механизме личностного роста (В.А. Петровский,
А.Г. Асмолов), специфической направленности развивающегося мыслительного процесса
(А.В. Брушлинский), проблематизации содержания обучения как способе проектирования
условий творческого развития учащихся (В.Т. Кудрявцев) оказали значительное влияние
на формирование научной позиции автора. Предлагаемая
книга в известной мере может рассматриваться как итог моей работы под руководством
выдающегося ученого-психолога профессора В.В. Давыдова и в тесном сотрудничестве
с ним, сотрудничестве многолетнем и счастливом. Уверен, что итоги было подводить
еще рано, но так распорядилась судьба: 19 марта 1998 года сердце Учителя остановилось
навсегда.
Василий Васильевич успел ознакомиться с настоящим текстом и выразил
пожелание увидеть его опубликованным. Подготовив текст к печати, я, как мог, исполнил
волю Учителя.
Моя искренняя признательность Б.А. Зельцерману, благодаря
бескорыстным усилиям которого мысль о книге стала реальностью. Back
| E-mail |
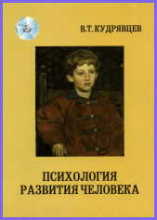 ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА:
ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА: